Герман Фейн (Андреев)
«В стране строго алогичной закономерности»
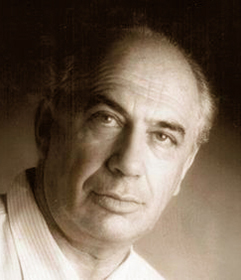
1. Пути постижения антимира

«Зияющие высоты» — произведение огромного значения для русской литературы. После Евгения Замятина («Мы») лишь
Джордж Оруелл пытался (и небезуспешно) нарисовать современное тоталитарное общество в форме фантастического романа. Однако оба они, уловив некоторые существенные признаки тоталитаризма, не вышли за пределы того жанра, который принято называть антиутопией. А чтение антиутопии всегда оставляет у читателей (даже жителей Ибанска) приятное сознание нереальности изображенного. Книга Александра Зиновьева
— не антиутопия, вообще не утопия и вообще не анти. Это исследование действительности, а не фантастическое изображение выдуманного государства из деталей, пусть и найденных в реальных государствах. У Замятина и Оруелла господствует остранение. Эта позиция не нужна Зиновьеву. Автор «Зияющих высот»  — сам житель Ибанска. Он не видит в этом мире ничего странного, как не видят ничего удивительного в размножении способом деления организмы, таким образом воспроизводящие потомство, даже если они слышали, что существует более приятный способ продления рода.
— сам житель Ибанска. Он не видит в этом мире ничего странного, как не видят ничего удивительного в размножении способом деления организмы, таким образом воспроизводящие потомство, даже если они слышали, что существует более приятный способ продления рода.
Александр Зиновьев рассмотрел функциональное устройство Ибанска энциклопедически разносторонне в книге, которая любому жителю иного мира (просто мира — в сопоставлении с «антимиром» Ибанска) может показаться переполненной гротесковыми картинами. Однако ибанец видит в книге блестящий юмор, но отнюдь не сатиру, ибо сатира предполагает искажение и преувеличение, а перед нами произведение реалистическое до натурализма. Если реализм, по ибанским литературным теориям, изображает жизнь в форме самой жизни, то у Зиновьева — антижизнь в форме антижизни, что то же самое.
Если рецензенту разрешено выражаться, подражая автору, то можно сказать, что ибанская действительность (антижизнь) развивается по строжайшим в своей нелогичности логическим законам антилогики. Антилогика — это ведь не разоблачение логики, как нейтрон не есть разоблачение позитрона. Разоблачители ибанской системы нередко клеймят ее за отсутствие в ней логики. Книга же Зиновьева — апология антилогики, поскольку эта антилогика достаточно строга. Как говорит Шизофреник: «Я не питаю к нашему изму ни любви, ни ненависти... Я отношусь к нему иначе: я его понимаю».
В истории ибанистики и измологии не было еще книги, которая давала бы такой логически завершенный и тематически полный анализ ибанского антимира, такую «энциклопедию ибанской жизни». В книге изображается жизнь героического рабочего класса, который в лице хлеборубов и Токаря-Универсала заверяет «любимое и мудрое руководство и нашего любимого и гениального Заведующего лично в том, что мы верим даже в то, во что на самом деле не верим, и выполним всё, что на самом деле не выполним»; о трудовом ибанском крестьянстве мы узнаём из истории жизни Крикуна, несколько напоминающей путь Гриши Добросклонова и дающей автору возможность описать жизнь в ибанских дармохозах; скрупулезно описаны и ибанская интеллигенция, и правительственные органы, и просто Органы; школа вообще и специальная школа для высокоодаренных детей начальства; проанализирована деятельность театра на Ибанке и различных НИИ; читатель присутствует на торжественных открытиях памятников изму, вроде мраморного Сортира, и на встречах иностранных друзей Ибанска, например — короля Ломай-Сарай-Кирпич-Углы, который «повел свой давно вымерший народ сразу к полному изму, минуя все промежуточные ступени» и довел своих подданных до такой свободы, что их «без визы теперь даже за бананами на дерево уже не выпускают»; упоминается посещение иностранными журналистами космодрека и неизвестное в мире, но весьма распространенное в антимире средство массовой информации срамиздат; дается классификация ибанских наук на естественные и неестественные (юмористически называемые в Ибанске общественными и являющиеся светским филиалом Органов); мы узнаём о быте и делах ибанской армии во время войны и в мирное время; не обойден автором и ибанский быт, и ибанские кусочные; автор проникает в мастерскую скульптора Мазилы, которого иногда «для неузнаваемости» обозначает термином «ЭН»; есть в книге даже сообщение о своеобразном ибанском гимне без слов и без музыки, который «исполняется молча, стоя руки по швам до тех пор, пока не поступит распоряжение посадить всех». Словом, не позавидуешь человеку, который рискнет обвинить А. Зиновьева в том, что он чего-то недоучел, что-то упустил из виду, где-то не расставил нужных акцентов или не показал руководящей и направляющей роли Братии.
Но главное в том, что все пестрые картины ибанской жизни вправлены в строгие рамки антилогики. Как, по утверждению Болтуна, сказал бы Шизофреник: «Если какой-то факт нашей жизни поражает тебя несоответствием здравому смыслу, ищи в нем закономерную социальную основу». Алогические законы ибанского общества неизбежно, в строгой зависимости от «самой сути социального бытия людей в существующих в высшей степени благоприятных для этих явлений условиях», и вызывают, и объясняют все факты ибанской жизни.
Книга Зиновьева настаивает на необходимости отказаться, в целях строгой научности, от представлений об ибанском обществе как обществе больном. Больное общество хромает и спотыкается, задыхается и жалуется на тягостную ситуацию. Общество, которое вверх тормашками семимильными шагами движется к зияющим высотам изма, — не больное, а нормально перевернутое. «Как исследователь, — говорит Болтун, — я убедился в том, что наше общество не больное. Оно здоровое. Но у него свое представление о здоровье и болезнях». «Если хотите научиться понимать нашу жизнь, — вторит ему Неврастеник, — научитесь сначала ходить вверх ногами». И нет ничего удивительного, что в этом обществе называют Клеветниками, Шизофрениками, Болтунами и Мазилами людей, рассматривающих его с позиции ходящих вниз ногами.
Как отвращение к насилию онтологически присуще миру, так же онтологически присуще антимиру насилие, потому ибанцы «никогда не воспринимают его как насилие». Борьба и подавление — твердое основание ибанского образа жизни. Если бы не было врагов, если бы некого было разоблачать, громить, уничтожать — Ибанск не прожил бы и одного дня. В этом смысле есть, казалось бы, некоторое противоречие в стремлении ибанцев к псизму — полному со- цизму. Ведь если псизм восторжествует на всей планете, не станет врагов — смерть для Ибанска. Но автор заверяет ибанцев, что руководство и при псизме не растеряется. «Последующая история Ибанска» дает богатейший материал для футурологов и, в частности, напоминает о создании Неприсоединившейся Буржуазно-Демократической Республики в два квадратных метра (для ведения клеветнических передач и для высылки оппозиционеров).
2. Элементы сатиры в «Зияющих высотах»
Книга А. Зиновьева — образец адекватного подхода художника к действительности: «Бессмысленно за Полярным кругом искать очаги субтропиков». Но читателям из анти-антимира (попросту, нормальным людям) может показаться, что в «Зияющих высотах» им демонстрируют манипуляции с известными по мировой сатире предметами (кстати, в таком смысле истолкована книга в кратком предисловии на крылышке обложки). Глядя на обычное фотографическое изображение, они видят прием, ибо трудно поверить в существование общества, последовательно развивающегося по законам, которые кажутся гротескными, карикатурными, пародийными.
Конечно, элементы сатиры, родство книги с мировой сатирической кладовкой бросается в глаза: веет чем-то знакомым — историком города Глупова Михаилом Салтыковым-Щедриным, бытописателем города N и его окрестностей Николаем Гоголем, исследователем Океании Джорджем Оруеллом, обличителем Единого Государства Евгением Замятиным, утопистом Шарлем Фурье, писателем-сатириком Джонатаном Свифтом. Но элементы сатиры не дают основания определить книгу в целом как сатирическую. Дать жанровое определение книги, выходящей за рамки поточной литературной продукции, вообще трудно: чем талантливее книга, тем менее податлива она литературным дефинициям. «Начиная от «Мертвых душ» Гоголя до «Мертвого дома» Достоевского в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного произведения, немного выходящего из посредственности, которое вполне укладывалось бы в форму романа, поэмы или повести» [Лев Толстой. Несколько слов по поводу книги «Война и мир». Собр. соч. в 22 томах. Том 7. М. Художественная литература. 1981 ![]() ]
]
Александр Зиновьев, философ и логик, удивительно тонко чувствует художественную форму и выламывается из привычных конструкций как смелый, опытный писатель. Как говорит Учитель, «если есть что сказать значительное, о форме не думают. Она приходит сама собой. Причем — адекватная содержанию». Структура антимира, железобетонная связь между всеми элементами жизни ибанского общества диктуют форму, где лирика и сатира, быт и научный трактат, комедия, доходящая до фарса, и трагедия, обретающая черты кошмара, сухие логические построения и глумливая похабщина — сливаются в неразделимое целое настолько, что проникают друг в друга, подчас незаметно для читателя меняясь местами. Есть в книге и сквозные сюжеты (история жизни Крикуна, духовные искания Мазилы), есть множество вставных эпизодов, изображающих отсеки ибанского бытия, есть песни и анекдоты, молитвы и проклятия, памфлеты и фантасмагории. Эта композиция есть адекватное выражение композиции ибанского общества: многообразие и причудливые формы элементов, составляющих гармоническое целое дисгармонической ибанской жизни. Когда читаешь книгу А. Зиновьева, думаешь о неизбежности, органичности ее появления. Кажется, дух «Зияющих высот» давно носился в обществе. Нужен был лишь кто-то, обладающий таким редким сочетанием качеств, как холодное беспощадное рацио и страстное сердце, знание самых отвлеченных философских понятий и конкретно-чувственной жизни ибанца, неисчерпаемый юмор и чувство вкуса, не позволяющее этому юмору перейти в хохмачество, независимость суждений и способность впитать в себя самые разные теории ибанского общества, наконец — владение русским языком на всех его уровнях; нужен был кто-то, кто обладал бы такими свойствами, чтобы книга состоялась. В Александре Зиновьеве воплотились те черты русской культуры, которые дали ему возможность подвергнуть анализу антикультуру ибанского типа. Разумеется, где-то в подсознании, как результат читательского опыта, у А. Зиновьева остались образы сатирических книг прошлого, но писал он, несомненно, не под их влиянием, а просто с позиций человека культуры, рисующего перевернутый, абсурдный для него мир, осознаваемый им, однако, как неабсурдный с точки зрения законов этого мира.
Именно этот подход вызывает такое количество сатирических образов и парадоксальных построений, своеобразие которых в том, что они не выдуманы автором, не сконструированы им. Он их честно списывает с натуры, разве что иногда доводя до абсурда. Но и это не прием, а фиксация абсурдности ибанской действительности. «Раз враг ругает, значит хорошо. Враг не любит наши успехи. Если враг хвалит, значит что-то неладно. Боже упаси от похвал врага!» Ну, есть ли в этом рассуждении что-то гротескное? Нормальная система логики общества, сплошь окруженного врагами. Потому и продолжение этого силлогизма столь же логично, как и абсурдно: «И ибанские обществоведы делали всё, что в их силах, чтобы враг их не похвалил. И добились в этом выдающихся успехов».
Этот прием кажущегося доведения до абсурда того, что содержит абсурд в самом тезисе, очень часто употребляется автором «Зияющих высот». Но ведь приема нет, это читательский опыт усматривает прием, а на самом деле это просто пересказ общеизвестных положений ибанской идеологии и фактов ибанской истории.
Что будет с борьбой противоположностей при победе псизма? Каждый ибанский школьник ответит, что «тогда будет иметь место борьба хорошего и еще лучшего. Еще лучшее будет побеждать хорошее. Стоит появиться чему-нибудь хорошему и даже очень хорошему, как немедленно в борьбу с ним вступает еще лучшее и побеждает его». Где тут пародия? Школярски точный пересказ известного ибанского принципа. И столь же фактографична дальнейшая информация: «Появлялась, например, мало-мальски терпимая картошка. И тут же с ней начинала борьбу еще лучшая. Прежняя исчезала совсем. А пока новая внедрялась, ее вытесняла еще лучшая. И так без конца».
Столь же необычен гротеск у А. Зиновьева. Гротеск в его классическом виде — фантастически преувеличенное, переходящее границы правдоподобия изображение человека или явления. «Сближая далекое, сочетая взаимоисключающее, нарушая привычные представления, гротеск в искусстве родственен парадоксу и логике». [Л. Е. Пинский. «Реализм эпохи Возрождения». М., 1961, стр. 120]. Но как писатели эпохи Возрождения, так и русские сатирики XIX века обнажали гротескное во внешне благопристойном. Зиновьеву это не надобно: гротекс в жизни Ибанска занимается стриптизом, самообнажается. «Грани начали стирать еще при Хозяине. Но вплотную подошли к полному стиранию их только теперь... Первым делом стерли грани между городом и деревней. В результате деревня частично сбежала в город, а частично встала в очередь за маслом, яйцами, кильками и другими промышленными товарами в городских магазинах. И стоит там до сих пор... Потом стерли грани между умственным и физическим трудом. В результате талантливые ученые стали зарабатывать почти столько же, сколько уборщицы, маляры и дворники… взялись за стирание граней между мужчиной и женщиной. Женщинам разрешили носить брюки, пить коньяк, ругаться матом и управлять государством… В конце концов, признали и бороды, так что по внешности мужчин и женщин различать стало невозможно... Поскольку началась кампания против бюрократической волокиты, возникла острая проблема: у мужчин отрезать или женщинам пришивать. Началась борьба, в которой, как всегда, победила генеральная линия». Всё гротескно — и всё обходится без авторской фантазии, без преувеличения. И парадокса как литературного и логического приема здесь нет.
3. Логика и дуболектика
Глубокое заблуждение некоторых ибанологов — думать, что антимир развивается хаотично, что у него нет строгой идеологической основы. Люди ходят вниз головой не потому, что им никто не объяснил неудобств такого способа передвижения, а как раз наоборот: потому что доказано, что этот способ — самый лучший. Антинаучному объяснению антинаучного положения при ходьбе служит в антимире антилогика, называемая в Ибанске то дьяволектикой, то дуболекти- кой, а то — ишь ты, совсем по-русски — диалектикой. Диалектике противостоит логика. Логика обслуживает науку и мораль, диалектика — идеологию и моральный релятивизм. (Идеология — это ибанская антинаука.) Логика независима от групповых интересов — для диалектики нет истины, независимой от них. «Научность, — писал в своей книге Клеветник, — представляет элемент и средство антисоциальности, тогда как антинаучность есть ярчайшее выражение социальности».
Логика подчиняет человека высшим ценностям — диалектика служит для подчинения высших ценностей удобствам человека. Ибанск потому-то и перевернутый мир, что в нем наверху человек, а внизу растаптываемый в грязи Бог и связанные с ним высшие ценности, в то время как в нормальном мире над всем должен царить Бог, диктующий людям логику подчинения высшим ценностям («Да-да, нет-нет, а остальное от лукавого»), человек же обращается к небу и там ищет Истину, по словам Н. Бердяева — «смиряясь перед ней».
Диалектическая логика, правилам которой подчинены рассуждения и поступки ибанцев, предопределила ибанский конформизм. Согласно логике (и христианской морали) свобода — это свобода: «Не делайтесь рабами человеков» (Апостол Павел. Первое послание коринфянам, VII, 23). Согласно диалектике — это подчинение необходимости, то есть несвобода. Один из арестантов в книге А. Зиновьева возражает диалектике: «...свобода есть как раз не необходимость, а обходимость; а познанная или непознанная, кто ее знает; непознанная отчасти лучше; пока начальство не пронюхало, например, что можно обойти проходную и безнаказанно смыться в самоволку, мы хоть иногда свободны».
Диалектика ибанцев нашла свое ярчайшее выражение в их языке, подтвердив тем самым соображение Карла Маркса, что язык есть материализованная мысль. Книга представляет читателю различные структурные типы воплощенной в языке ибанской диалектики. Мы укажем лишь на те, которые наиболее выразительно иллюстрируют мысль Маркса. Часто ибанский язык отражает диалектическое изменение отношения ибанского начальства к различным фактам науки, искусства и истории Ибанска: в Ибанске «воздвигли десять новеньких живописных церквей 10 века и ранее» или «...как установила передовая буржуазная лженаука кибернетика, недавно перешедшая на нашу службу...» Некоторые фразеограммы отражают диалектику взаимоотношений формы и содержания в ибанской жизни: «Ряд домов, одинаковых по форме, но неразличимых по содержанию» — здесь противительный союз «но» четко фиксирует противоречивый характер диалектического закона единства противоположностей. К этому же виду относится тезис о «типичности исключения» в ибанской литературе.
Закрепил ибанский язык и превращение ибанского общества из классового в общенародное. Это выразилось, в частности, в том, что отдельные фразы обрываются, ибо каждый ибанец знает, чем заканчивается предложение типа «Мерин послал его на»; искусствоведы Ибанов и Ибанов написали книгу «Формалисты на службе у», Социолог — серию статей «о руководящей роли», а Приветственная Телеграмма выражает радость «по поводу досрочного перевыполнения по почину и инициативе». О морально-политическом единстве ибанцев, о разрушении классовых различий между ними свидетельствует и такое явление ибанского языка, как мат, который до революции употреблялся лишь в среде угнетенного класса, намеренно содержавшегося угнетателями в полной темноте, а теперь стал языком общения всех классов ибанского общества вплоть до рафинированной интеллигенции.
4. Тотальная социальность и автономия личности.
Представление о безусловной автономии личности от общества, даже если признать его не бесспорным, радикально противостоит ибанской идеологии. Правду сказать, утверждение примата личности над правами общества никогда не было господствующим ни на Западе, ни там, где сейчас разместился Ибанск. Однако Ибанск потому представляется антимиром, что в нем осуществляется тотальное подавление, тотальная социальность, как говорится об этом в «Зияющих высотах». Социально организованный ибанский антимир сближается с крысиной стаей: чем социальнее ведут себя ибанцы, тем больше они теряют свой человеческий облик — законы социальности не очень-то отличаются от законов стадности.
Чтобы люди отказались от своих прав и согласились стать подопытными животными, нужны определенные предпосылки, которые, как сообщается в «Зияющих высотах», в Ибанске были созданы: ибанцев убедили, что они выше всех остальных жителей вселенной, «за исключением тех, кто последовал их примеру», притом выше не по «реакционной биологической природе, ...а благодаря прогрессивным историческим условиям, правильной теории, проверенной на их же собственной шкуре, и мудрому руководству, которое на этом деле собаку съело». Ибанец выше всех других людей не по личностным свойствам, а благодаря принадлежности к ибанской социальности. С этого момента возникает ибанское антиобщество, состоящее из индивидов, которые даже менее индивидуальны, чем жители замятинского Единого Государства. Там жителей хоть по номерам различают, а здесь все Ибановы, и в какой-нибудь воинской части старший лейтенант Ибанов воспитывает курсанта Ибанова и доносит майору Ибанову о своих успехах, а жизнь этой части описывает знаменитый писатель Ибанов («Ибанов — это литературный псевдоним; настоящая его фамилия — Ибанов»).
Согласившись отказаться от своей личности, ибанец, естественно, передал решение всех жизненных задач руководству и стал «слепоглухонемоглупым». Всякая попытка ибанца выступить не от имени группы, а от самого себя, рассматривается как поступок враждебный. Во всяком случае известен факт, когда «одного ведущего ибанолога расстреляли только за то, что он употребил выражение С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ».
Но вот Шизофреник определяет ценность человека прямо противоположно тому, как эта ценность определяется в Ибанске: «Люди хороши только тогда, когда они из этих ячеек (ячеек социального организма — Г. А.) вылезают на то или иное время». Так что человек талантливый, когда он «не играет в их игры», становится личностью, а не Ибановым (Шизофреником, а не Мыслителем). В Ибанске же ценность человека определяется его преданностью той социальной ячейке, куда его поместило начальство, в соответствии с щедринской поговоркой: «Всяк сверчок знай установленный для тебя начальством шесток».
Такое общество можно было бы назвать обществом всеобщего равноправия, если бы оно состояло не из людей, согласившихся уподобиться крысам, а из настоящих крыс. Но поскольку людские особи отличаются одна от другой определенными личностными свойствами, то Болтун, например, считает Ибанск обществом, где равенство не осуществлено. В естественном мире неравные права естественно неравных личностей создают действительное равенство. В антимире естественно неравные особи объявляются равными во всем, а потому социальное положение этих особей перестает зависеть от их личных свойств, и так возникает действительное неравенство. «Выход один, — говорит Болтун, — восстановить справедливое неравенство путем создания условий повышения социальной позиции индивидов за счет личных способностей. Но это противоречит самой идее иерархии, априори исключающей различие личных достоинств индивидов», иерархии, которая выдвигает индивидов с наиболее сильным (как у крысиных вожаков) социальным инстинктом, а к человеческой личности подходит с позиций шигалевщины.
5. Основы надежды
Александр Зиновьев написал книгу, которую можно было бы назвать и сатирой (поскольку ибанский мир представлен в ней как антимир, то есть мир уродливый на нормальный глаз), и поэмой (так как в ней воспеваются душевные порывы и высокие мысли наиболее благородных жителей Ибанска), и философской прозой на манер вольтеровских повестей, и социологическим исследованием, и собранием баек наподобие немецких шванок, и натуралистическим повествованием о прозе жизни. Наличие всех этих элементов и заставило нас отказаться от регистрации книги А. Зиновьева по разряду «произведения сатирического жанра». Сатирик, как известно из учебников теории литературы, выражает свои положительные мысли негативно, через отрицание уродливых, по его мнению, явлений жизни. Н. В. Гоголь назвал свои «Мертвые души» не сатирой, а поэмой, потому, в частности, что там, помимо упреков, брошенных России, содержится и гимн ее величию. Гоголь верил, что Россйя мертвых душ будет преодолена Россией субстанциональной, порывом славянской души, с ее широтой и удалью. Поэма возникла как выражение неестественности, нелогичности существования мертвых душ в Богом избранном народе. А. Зиновьев никаких противоречий, никакой неестественности в Ибанске не нашел. Ибанская душа не дает ему такого утешения, как русская душа — Гоголю: «...ибанская таинственная душа — это лишь ибанский общеизвестный бардак, возведенный в энную степень, перенесенный в ибанскую голову, но не преобразованный в ней», — говорит Шизофреник. Исследование Ибанска, осуществленное Шизофреником, приводит Мазилу к грустным выводам: «...твои суждения мне кажутся слишком беспощадными. Не остается иллюзий».
Но сама книга А. Зиновьева в целом — основа надежды: вырывая из сознания иллюзии, надежды на осуществимость перемен в условиях ибанского антимира, она оставляет надежду на его интегральное преобразование в нормальный мир. Если антилогика (дуболектика, изм) осуществила свой убедительный эксперимент построения Ибанска, логика должна послужить делу его разрушения. Человечество, говорит Болтун, «в гигантских масштабах обдумывает свой прошлый опыт, теперешнее состояние и перспективы. И потому оно, естественно, необычайно много говорит на эту тему. Если хотите знать, дело говорения сейчас может быть поважнее, чем космические полеты и физические исследования». Болтун (как и сам Зиновьев) не утопист: он не видит в логике чудо-рецепта, он знает, что «глас человека, призывающего к логическому порядку, есть глас вопиющего в пустыне», но «если есть какая-то маленькая надежда хотя бы в ничтожной степени, но повлиять на размышления людей о своей жизни и судьбах человечества путем логической обработки языка, ее надо использовать». Логике нет альтернативы, как нет альтернативы гласу «не убий!» Если люди хотят отказаться от насилия, у них остается один путь — путь правды, изложенный языком так называемой формальной логики. И обратно — только этот путь может привести человечество к безусловному принятию истины ненасилия.
Непонятным, запутанным кажется ибанский мир тем, кто или не владеет элементарными логическими правилами, или боится применить их при анализе ибанской действительности (предпочитая всё сваливать на «таинственную ибанскую душу»). Именно это имеет в виду Неврастеник, когда говорит Журналисту: «Наши самые страшные драмы разыгрываются у всех на виду. Это наша обыденная жизнь. Любое собрание. Любое заседание. Любая речь. Любая газета. Смотрите. Читайте. Слушайте. Это и есть наша реальная жизнь, а не маскировка и обман. Обмана нет. Обманываетесь вы сами по вашей доброй воле. Вы видите то, что хотите видеть, ибо всему придаете какой-то смысл. А смысла никакого нет». Неврастеник пытается объяснить заблуждения западных наблюдателей: они знают законы логики, но не используют их в Ибанске, почему-то не веря в их силу при подходе к ибанской действительности: «Вы рождаетесь, растете и живете в атмосфере здравого смысла, а попадаете к нам — от него ни крупицы не остается». Западные ибанологи, забывая здравый смысл, всё гадают о тайнах Ибанска, а тайны лежат на поверхности, и понять их просто для того, кто применяет законы логики к любой ситуации. Болтун без хвастовства обещает: «Если бы начальство предложило мне для нужд государства построить научную теорию нашего общества, пусть секретную, я знаю людей, с которыми мы это сделали бы за пару лет».
Таким образом, научная, то есть логически разъясненная теория ибанского антимира уже существует в головах ибанцев. Однако публике мешают ознакомиться с ней ибанские правила информации. И, наряду с логикой, Зиновьев предлагает в качестве важнейшей позитивной идеи — гласность. Казалось бы, какая банальность! Гласность? Только и всего? Но в гласности не только писатель Александр Зиновьев, а, как теперь обнаруживается, и многие государственные мужи, которым никак нельзя отказать в трезвости мысли, видят тот самый рычаг, которым можно перевернуть ибанский мир с головы на ноги. Один из героев «Зияющих высот» уверен, что держит в руках ключ к решению всех проблем ибанского общества. Ключ этот — «гласность, ее правовое обеспечение и как следствие этого начало нравственного совершенствования общества». Заведующие Ибанска ничего так не боятся, как гласности. Это их самое больное место, «и в это больное место надо бить, бить и бить, не заботясь о последствиях и о будущем... Нужна гласность. Любой ценой. В любой форме и прежде всего во вне. Мир должен знать, что мы такое».
Казалось бы, нет ничего нового или оригинального в призывах к логике и к обнародованию логических рассуждений. Но что есть оригинального в области морали и свободы после, например, Евангелия? Там всё сказано: и насчет правды, и насчет логики. Но общество, которое подменило эти старые истины новыми неправдами, нуждается в возвращении к истокам. Книга А. Зиновьева практически зовет ибанцев к этим истокам христианской морали. «Настоящая мораль, — говорит Уклонист, — всегда неофициальна. Она всегда одна. Она либо есть, либо ее нет. Она не имеет никаких основ, кроме решения отдельных индивидов быть моральными. Она тривиальна по содержанию, но невероятно трудна в исполнении. Не доноси, держи слово, помогай слабому, борись за правду, не хватай хлеб первым, не перекладывай на других то, что можешь сделать сам, живи так, будто всегда и всем виден каждый твой шаг, и т. п.»
Приведенный пассаж, может быть, свидетельствует о религиозности автора. Точнее было бы сказать, что атеизм представляется Зиновьеву худшим из двух зол: веры в Бога и неверия в Него. Как Крикун, он не верит, но хочет верить, хочет, чтобы Бог был:
Отче! !
Не молю, а требую: Будь!!
Я шепчу,
Я хриплю,
Будь же,
Отче!!!
Умоляю,
Не требую:
Будь!!!!!
Просит Бога помочь сыну бедная ибанская крестьянка: «Только помоги ему. Это моя жизнь. Это мука моя. И Твоя тоже, Господи. Что Ты без него!» И сам он молит Бога: «Приди же, в конце концов! Без Тебя тут так трудно!» Особое место среди персонажей книги занимает внезапно появляющаяся и так же внезапно исчезающая, почти трансцендентностью овеянная фигура Посетителя. А величайшая заслуга Правдеца, по словам Болтуна, в том, что «он принес в наше общество хотя бы крупицу Бога».
Ибанское общество безрелигиозно, а потому и бёзнадежно. Идеология не стала и не могла стать религией, ибо, как говорит болтун, «религия есть факт сознания, существенным образом влияющий на поведение людей. Это состояние духовности человека в целом», а идеология — «лишь средство в поведении людей. Средство карьеры, средство закрепощения, ограничения, оболванивания и т.п. Она не становится внутренним состоянием человека, определяющим его поступки». Если А. Зиновьев и не знает Бога Сущего, он знает религию как воплощенную нравственность. Если этот человек строго логического мышления и верит в Бога, то не в церковного (для этого логики недостаточно — нужно Откровение), а в близкого толстовскому Богу. Потому-то один из любимых его героев, Крикун, парадоксально называет себя «верующем безбожником».
И в отношении к науке А. Зиновьев разделяет моралистическое учение Льва Толстого. При всем своем западничестве, он не видит в науке как таковой той силы, которая преобразует общество. Наука и искусство без определенного нравственного содержания не могут стать основой надежды: «Человек — это, между прочим, честь, совесть, стремление к свободе выбора, к свободе перемещений, к свободе творчества и т. п., — говорит Болтун. — Как тут участвуют развитие науки и техники? Они тут совсем не при чем».
Интеллигенция, носительница общественного сознания, определяет естественное стремление человека к свободе. Признание закона необходимости на словах и — что еще недопустимее — на деле есть философское оправдание апологетичности, а следовательно, исключает человека из числа интеллигентов: «…все разговоры о целесообразности, нуждах и т. п. суть лишь демагогическая форма для карьеристов, стяжателей, невежд, бездарностей», — говорит Неврастеник. Через всю книгу проходит яростное отрицание этих самых законов целесообразности, необходимости, которые для автора суть синонимы рабства. «Когда люди захотели наплевать на законы тяготения, — говорит Посетитель, — они изобрели самолет».
Те, кто проповедует непреодолимость неких законов необходимости, отнимают у людей всякое желание противостоять антимиру. Изменить его может только борьба людей, готовых на жертву во имя преодоления «законов необходимости»: «Люди, сжигающие себя на площадях, кончающие жизнь самоубийством, объявляющие голодовку, сочиняющие свои глупые книжонки... делают нашу историю». Как Лев Толстой, Александр Зиновьев возлагает надежды на людей, отказывающихся от соучастия: «Всё зависит от того, — говорит Мазиле Болтун, — сколько людей, где и когда скажут свое "нет"». Это основа основ. На другое надеяться бессмысленно. Другого просто нет в природе общества и человека». Высшая Логика человеческого разума и человеческого Духа требует от людей «нелогичного» поведения — единственного способа утверждения Свободы и преодоления алогичной закономерности.